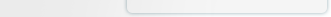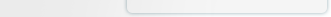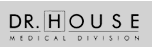| Tender_Doll | Дата: Суббота, 15.12.2012, 06:15 | Сообщение # 1 |

Мед. брат/сестра
Награды: 0
Группа: Персонал больницы
Сообщений: 20
Карма: 80
Статус: Offline
| Название: I say yes
Автор: собственно я)
Пейринг: Хаус\Уилсон
Жанр: ангст, драма, мб чуточку романтик (но лично я так не считаю)
Описание: я дописала за сценаристов то, как умер Уилсон
Мотель где-то на окраине.
Открытые шторы.
Шум леса. Лес рубят? Это просто листья шелестят в кронах? Невыносимо.
Невыносимо, чтобы листья могли так адски шуметь. Невыносимо, чтобы это причиняло такую муку.
- Да тише ты, идиот, - говорит Хаус и Уилсон чувствует холод спирта на сгибе локтя, а вот иглу уже нет. Как это? Разве можно так часто? Ему кажется, последний раз Хаус делал ему укол десять минут назад.
Или десять дней назад.
или
Все как-то путается, мысли летят, как снежинки под ветром — кувырком, в разных направлениях. Почему, лежа тут с высоченной температурой, он думает о снеге, Уилсон не знает. Наверное, ему пристало скорее думать о пламени, потому что голова буквально раскалывается в раскаленных тисках. Хаус колет ему не обезболивающее; что-что, а график по морфину ему известен великолепно, какими-то внутренними часами с секундомером. Руки его вцепляются в одеяло, и как всегда, Хаус отцепляет их и взамен берет своими двумя. Это уилсоновский спасательный круг. Раз за разом, он даже представить себе не может, чего стоит Хаусу сидеть так в одной позе, пока он буквально выламывает ему пальцы из суставов - но Хаус сидит. А сделал бы я это для него? Уилсон не знает. Он вообще не знает о боли столько, сколько знает Хаус. До этих времен не знал, а сейчас он уже обгоняет друга на бооольшой скорости.
...Проходит полчаса или неделя, наконец он приходит в себя. Глубоко вдыхает воздух, настолько, насколько позволяет ему это сделать прилично уже сдавленная грудная клетка, еле-еле разлепляет ресницы, пот и слезы смешались воедино, он вспоминает, о чем кричал в бреду еще два часа назад, и его затапливает лавиной раскаяния. Каждый раз в беспамятстве он проклинал Хауса, каждый раз одна только ненависть лилась из него, как из помойного ведра — просто потому, что Хаус не умирал, потому что Хаусу не было так больно, потому что его не рвало через два раза на третий; он готов был убить Хауса за то, что тот останется жить, когда его самого не станет. А Хаус либо молчал, либо отшучивался, либо просто с утроенным усердием ухаживал за ним — как будто за все эти слова, которых обычный Уилсон вроде бы и не знал даже, он только сочувствовал ему еще больше. Когда Уилсон впадал в тихую истерику, Хаус молча менял наволочку на подушке, которая в буквальном смысле промокала от слез, когда Уилсон не мог терпеть молча, Хаус раздраженно-устало говорил «да кричи ты, кричи, придурок, легче же будет», словно занимался паллиативом всю жизнь. Все так, мать его, естественно и просто.
Зато, каждый раз возвращаясь на планету Земля, Уилсон теперь встречал другого Хауса. Ему казалось, что болезнь каким-то странным образом убивает изнутри его, а внешне все это отражается на его единственном друге. Ему тоже приходилось прикидываться, что он не замечает ничего. Не замечает серого хаусовского лица, не замечает, как на нем болтается одежда, не замечает, как Хаус борется со слезами или с желанием покончить со всем этим — в клубе самоубийц, в отличие от самого Уилсона, он-то всегда состоял. Только вот этим утром (вечером? днем?) Уилсон сам знает, что пришло То Самое Время. Это вспыхнуло как-то нежданно, ночью, такой розовый мягкий огонь внутри него. Принятие. И финал, о котором они договаривались когда-то тысячу лет назад на зеленой дороге под нависающими мостами.
- Все должно кончиться. Помнишь, ты сказал, что послушаешься, когда я скажу тебе «да». Я говорю тебе «да».
У Уилсона высокая температура, но недостаточно высокая для бреда.
Хаус смотрит на него. Синий лед. Единственная ассоциация — мальчишкой еще, катаясь на катке вместе со взрослыми пацанами, Джеймс развернулся спиной — высший пилотаж! - и на него налетел какой-то здоровенный бугай с клюшкой. Вот и тогда было то же самое. Синий лед.
И темнота после.
- Ты решил, ты уверен, точно сейчас? - тихо спрашивает Хаус, и за вроде ровным голосом этим столько всего, что Уилсону вдруг хочется кричать. Там все ночи без сна, там все фальшивые улыбки, там вся человеческая любовь, там вся боль мира.
- Да, тянуть уже бесполезно, - отвечает Уилсон и конечно, начинает плакать, он попросту не контролирует такие вещи уже давно и махнул на них рукой. Тянется, берет руку Хауса и новые слезы обжигают, прокладывая дорожки по его лицу — ага, свежие шрамы, и как много. Запястья Хауса изрезаны, как колбаса; это тонкие неглубокие порезы в таком количестве, что издалека руки выглядят, как один кровавый кусок плоти. Значит, этой ночью Хаус уже знал. Или сейчас вечер?...
...утроденькакаякомуразница
Уилсон держит его руки в своих, в какой-то момент Хаус словно спохватывается и сжимает его ладони, тихо поглаживает. Он тоже медленно соображает из-за свистопляски последних дней. Честно говоря, он изумлен, что мысль об эфтаназии пришла к Уилсону сегодня — будь он сам на его месте, все было бы кончено еще пару недель назад.
- Не надо было, - не выдерживает-таки Уилсон, хотя внутренне знает, что нельзя обращать внимание на подобное. Как и на количество поедаемых Хаусом таблеток (и не только викодина, он еще в состоянии читать надписи на этикетках, чего не знает Хаус), как и на темные круги под его глазами, как и на ту ночь, когда Хаус умудрился...о Господи, Уилсон толком даже не знает, чем именно он шарахнул себя по ноге, но им чудом удалось выпутаться самим, хотя хаусовская нога и сейчас наполовину синяя. Нельзя, нельзя, нельзя. Надо быть благодарным, нельзя говорить о запрещенных вещах, надо держать себя в рамках, думает Уилсон, но вместо этого снова начинает всхлипывать, и Хаус смотрит на него вопросительно:
- Что? Болит? Дать еще столько же?
- Нет, нет, сейчас, сейчас я справлюсь, - шепчет Уилсон и несколько минут учащенно дышит, загоняя назад двинувшуюся было на него истерику. Нельзя, ради всего святого, нельзя. Надо быть благодарным, это всего лишь переход, надо...
Хаус покорно ждет, нарисовав на лице этакий скучающий вид. Одной рукой (во вторую Уилсон вцепился так, что и насильно не вытащишь — как обычно, как всю последнюю неделю) между делом поправляет уилсоновское одеяло, отводит влажные волосы у него со лба, вытаскивает из коробки салфетку и быстро, как профессиональная медсестра, без доли эмоций вытирает ему слезы. Слава несуществующему богу, у него есть дни и ночи, все те долгие промежутки времени, когда Уилсон бродит между сном и бредом с полными венами морфина, часы и часы, когда можно не прикидываться, Уилсон все равно почти не встает, он не узнает ни о разломанном на щепки заборчике у дома, ни о разбитых зеркалах повсюду, где висели эти зеркала, ни о ранах, порезах, затушках сигарет на теле самого Хауса там, где их скрывает одежда. Руки он не может прятать, но руки были всегда. А остальное Уилсону знать не о-бя-за-тель-но.
- Спасибо тебе, - тихо говорит Уилсон и рука его в руке Хауса расслабляется, теперь это - нежность, а не хоть-бы-во-что-вцепиться. - Спасибо тебе, это было так классно...пока я все не испортил. Ты лучший друг на этом свете. Да и на том.
- Того света нет, - с нарочитой злостью говорит Хаус, и губы Уилсона трогает легкая улыбка. Родная настолько, что...что...
- Ну пусть. Значит, на этом и на том, который я придумал.
- Заткнулся бы ты уже, - отзывается Хаус, с облегчением понимая, что пришло-таки время для очередной инъекции. Перетянуть Уилсону руку, которая и так вся в гематомах от бесконечных вливаний, вену он может найти с закрытыми глазами, он изучил его тело так, что иногда это все кажется ему бесконечным путешествием по организму Уилсона — он знает каждую его клетку, каждый сантиметр кожи, реакции его крови на любые препараты, скорость, с которой его нервная система сдает. Скорость, с которой сдает сам Уилсон. Ему обещали пять месяцев, а прошло три с половиной. Хаус выкидывает опустевший шприц (не в мешок для мусора, а в угол комнаты, ой как это не понравилось бы Уилсону, обрати он внимание), и несколько минут сидит рядом, гладя приятеля по волосам — почему-то инъекции теперь стали болезненными, - тот не говорит, но закусывает побелевшие губы, и Хаус, хотя и удивляется, принимает правила игры. Он слишком мало работал с пациентами, да и пациенты у него были другого рода, спроси он сейчас, Уилсон рассказал бы ему, как люди, беззвучно терпящие жуткие онкологические боли, начинают кричать, когда медсестра попадает не туда безобидной иголкой. Просто иногда последней каплей становятся такие странные вещи. Хаус этого не знает, и хорошо. Должен же он хоть чего-то не знать о боли?...
- Мм...Хаус?
Да ладно?! Вообще-то я сделал этот укол, чтобы ты отключился хоть на три-четыре часа, почти что с ненавистью думает Хаус и оборачивается к Уилсону, который и не собирается засыпать. Просто лежит и смотрит на него. Смотрит на него, как на Бога — и одновременно как на малыша, которому нужно утешение. Хауса начинает тошнить от самого себя. Это он, он должен быть сильным, он должен держать Уилсона, в общем-то, он так и делает, но вы посмотрите только в эти глаза. Так смотрят родители на тяжелобольного ребенка. Это ты тут умираешь, а не я, думает Хаус, жалея, что нельзя врезать Уилсону чем-нибудь тяжелым...а еще лучше самому себе, прямо сейчас, но в часы бодрствования Уилсона Хаус тут бессилен. Приходится изображать из себя нормального человека. Ему всегда казалось, что получается...
- Ну что еще?
- Давай. Сейчас. Я готов.
Вот оно. Черная бездонная пропасть, предназначенная не для Уилсона, а для него, и ласковые карие глаза, которые ее открывают. Хаус знает, что в таких больных часто не остается ничего, кроме ненависти к окружающим — так почему же у них не так? Ему было бы легче, а так приходится ненавидеть все самому — себя, мир, то за пределами этого мира, во что так упорно и наивно верит идиот Уилсон.
Не зная, чем занять паузу, Хаус берет влажную салфетку, протирает лоб Уилсона, шею с опухшими венами и лимфоузлами — еще не настолько, чтобы это заметил посторонний человек, но он-то видит все. Он буквально сканирует каждый новый симптом так же, как Уилсон замечает каждый новый порез на его запястье, даже если это сто тридцатый порез.
Уилсон там временем рассматривает его. Буквально таращится, и это начинает действовать на истрепанные хаусовские нервы. Минуту он медлит, но ничего не меняется, и салфетка летит куда-то в угол кровати.
- Чего ты так смотришь на меня? - подозрительно спрашивает Хаус, и Уилсон улыбается одними глазами.
- Запоминаю.
- У тебя будет целая вечность, чтобы жить воспоминаниями обо мне, это точно, - говорит Хаус, на секунду отворачивается и быстро стирает слезинку, покатившуюся к уголку рта. Все хорошо. Не будь такой сволочью, это не твои последние минуты. Это не твоя смерть, это не твоя история. Все хорошо, показывай ему, что все хорошо.
- Все хорошо, - точно услышав его, говорит вслух Уилсон этим омерзительным ласковым, всепрощающим тоном, от которого Хаусу хочется умереть вместо него, до него, прямо сейчас — и притягивает его к себе. Здрасте приехали. Хаус в свои пятьдесят лет не умеет обниматься с людьми. Буквально не знает, куда девать руки, куда все остальное. Все это знают и, как правило, не пристают, но сейчас уже не осталось никаких правил. Уилсон прижимает его к себе, так что он слышит стук сердца Уилсона вместе со своим сердцем, слышит, как отравленная кровь бежит по его венам, - прижимает с силой, не большей, чем могла бы быть у маленького ребенка, но Хаус не помогает ему. Если он сейчас поднимет руки, если обнимет Уилсона в ответ...мир рухнет, Вселенная взорвется, он сойдет с ума. Поэтому он, как кукла, просто позволяет Уилсону делать с собой то, что, по мнению того, следует делать. Хаус думает — не надо, не надо, пожалуйста, я не хочу помнить тебя таким. Таким беспомощным, потерявшим килограммов пятнадцать веса, дышащим так, словно бежал марафон. То, что встало на этой дороге, сдавливает уилсоновское сердце все сильнее и сильнее, и Хаус понимает, что лучше сейчас, надо сейчас, да какое — давно было надо...и этот мерзкий липкий страх «нояостанусьодин» снова сметает все его мысли. Как будто агонизирующий Уилсон все равно лучше мертвого Уилсона. Это не эгоизм, а эгоизм в сотой степени, но он ничего не может сделать. Ему страшно за себя, ему жалко себя, хотя он и знает прекрасно, что его жизнь продлится ненамного дольше жизни Уилсона, но он продолжает думать только о себе. Хаусу просто не приходит в голову, что это нормально. Среди всех этих дней и ночей, среди всего ужаса, который пожирает Уилсона, он на автомате ухаживает за ним, а страдает все равно из-за себя. Если Уилсон и другие миллионы идиотов правы, он попадет в ад, который ему столько раз пророчили. «Хаус, обещай мне» - сто раз говорит Уилсон, прекрасно читаюший на его лице все его намерения, и он обещает. Нет, я не буду дурить, нет, не натворю дел. Самоубийство из-за тебя — не много ли ты о себе думаешь? Уилсон никогда не настаивает, то ли потому что отлично знает, что Хаус врет, то ли просто у него нет сил спорить. И вот оно.
- Хорошо.
Хаус вытаскивает из упаковки шприц, взбалтывает какую-то ампулу, согревает в ладонях, растворяя кристаллы. Руки не дрожат. Уилсон даже не знает точно, что это, просто верит, что друг не подведет. Хаус наполняет шприц.
- Будет больно? - голосом, из которого исчезли вообще все краски, спрашивает Уилсон. Хаус исподлобья глядит на него.
- Ты считаешь, я смог бы обречь тебя на великомученическую смерть? Нет, болван, ты просто уснешь. И уже не проснешься.
Уилсон слабо улыбается и кивает. Хорошо.
- Я буду скучать по тебе, - негромко говорит он, и хотя его затапливает странное спокойствие, что-то...что-то меняется в комнате, электризуется воздух. Как будто весь мир меняет очертания, цвета, формы. - Где бы я ни оказался, я буду скучать по тебе целую вечность, Хаус.
Не отрывая взгляда от медленно растворяющегося вещества (или боясь посмотреть куда-то еще?) Хаус берет с одеяла руку Уилсона, переворачивает ее, прижимает к своей щеке и целует ладонь. И сразу, сразу же, словно одна секунда решила бы все, вводит иглу ему в вену. Их глаза на сотую долю мгновения встречаются, синие и карие...а потом карие просто гаснут. Хаус проверяет пульс на шее — его нет. На всякий случай на запястье — то же самое. В комнате стоит такая тишина, что ее можно резать ножом, и почему-то именно в этот момент Хаус тоже начинает слышать, как за окном шелестят деревья.
- Время смерти — десять пятьдесят одна, - говорит он, и голос его, тихий, беспомощный, как ножом взрезает этот шелест, это утро, это молчание. Хаус встает, задергивает шторы поплотней, с какой-то маниакальной бережностью поправляет одеяло, словно боится, что Уилсон замерзнет. Потом наклоняется, целует мягкие завитки надо лбом Уилсона, - именно в этот момент, когда его губы прикасаются к волосам друга, Хауса поднимает, затапливает и несет куда-то то, чего он боялся все последние месяцы - жуткое, сводящее с ума "никогда". Никогда больше Уилсон не поделится с ним сэндвичем, никогда больше Уилсон не будет на него кричать и оттаскивать от бездны, которая его заинтересует, никогда больше эти глаза не посмотрят на него и никогда в них не заиграет удивленная и все, ВСЕ прощающая полуулыбка. Джеймса Уилсона больше нет: никогда, черная, бескомпромиссная пропасть.
Хаус пятится, садится на пол у стены и стискивает руками голову, чувствуя, как слезы катятся по его лицу - а мыслей больше нет. И Уилсона больше нет в этой комнате, Уилсона больше нет нигде, а Хаус рыдает и рыдает и не может остановиться, хотя ему уже становится физически плохо от слез. Наверное, так он не плакал даже в раннем детстве; за всю свою врачебную карьеру он никогда не слышал, чтобы в больничных палатах так плакали женщины, теряющие мужей, детей, родителей - но что это могло значить теперь, когда не существовало единственного человека, который начал бы успокаивать его, и приставать с ненужными советами, и в конце концов разозлил бы его едва не до драки, но его не было, не было, НЕ БЫЛО БОЛЬШЕ. Господи-которого-нет, Уилсон, ушедший наконец за своей единственной правдой, как верил он - или в вечное ничто, как считал Хаус. Сейчас он впервые надеялся, что что- то там есть, что он ошибался, что в каком-то из прекрасных миров Уилсона встретят с распростертыми объятиями. Ему самому не нужна была жизнь после смерти, но боже, если ты есть, если тебя нет, неважно - пусть что-то хорошее ожидает там Уилсона. И пожалуйста, пускай Уилсон не видит, как Хаус воет сейчас в голос, раскачиваясь взад-вперед около холодной стенки. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
...А за окнами разгорается новый день.
Хороший, теплый, безветренный. Полный нежного солнца, голубого неба - и без малейших намеков на то, что в этом мире теперь чего-то не хватает.
|
| |
| |